Евгений Водолазкин
Авиатор
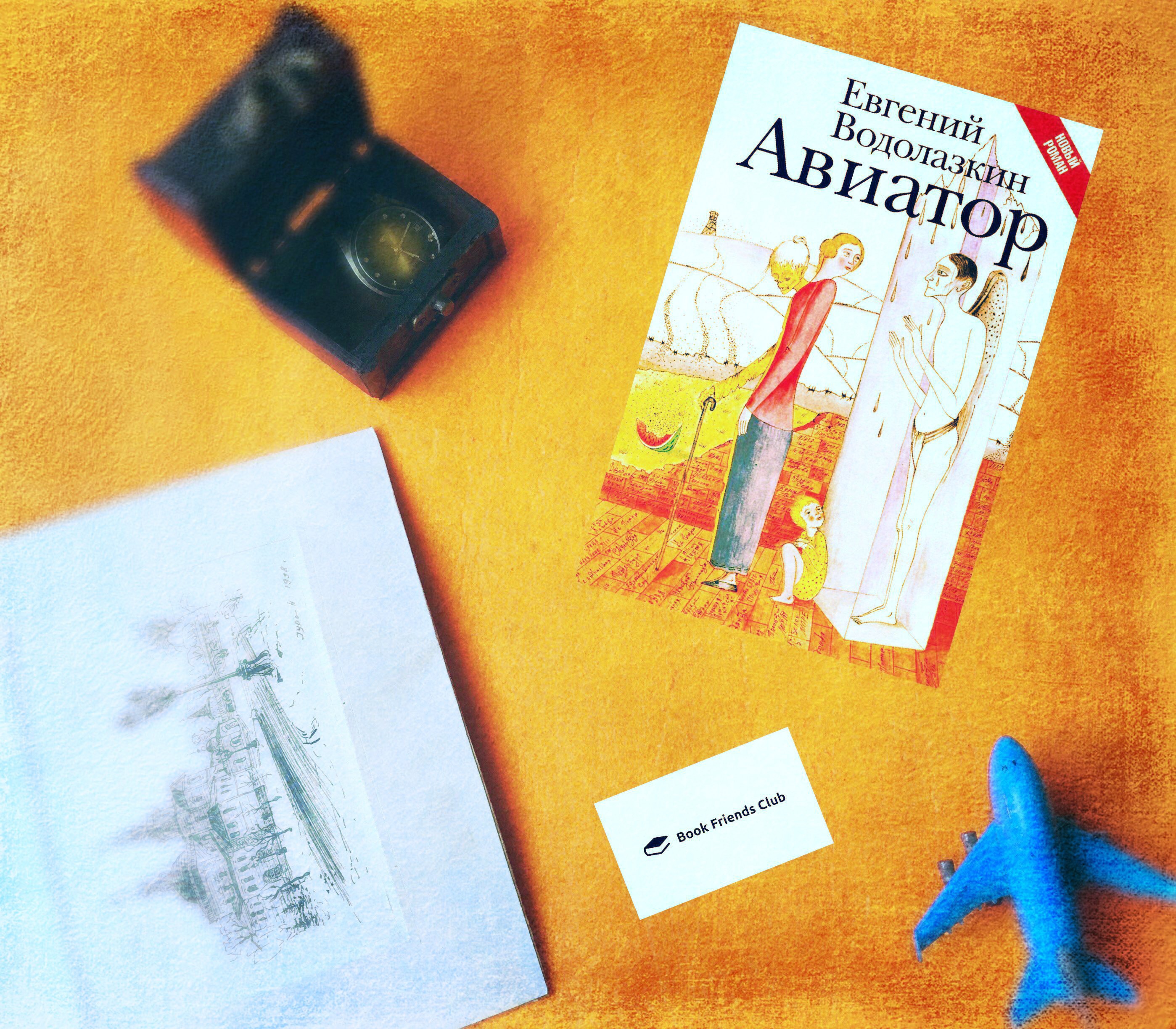
«Невыносимо было представить, что и дома меня никто не ждет. Большой мир мог прийти к концу, но это был бы еще не полный конец. Я все-таки не терял надежду, что мой малый, семейный мир устоял. Я бежал и плакал, и чувствовал, как мои слезы скатывались по щекам, как от плача сбивалось дыхание.
Когда я приблизился к дому, начинало темнеть. В светящемся электрическим светом окне я увидел папу. Он сидел в своей любимой позе, положив ногу на ногу, замкнув руки на затылке. Большими пальцами массировал шею. Мама наливала из самовара кипяток. Под огромным желтым абажуром всё это казалось ненастоящим. Казалось старой фотографией – оттого, может быть, что происходило беззвучно. Но отцовские пальцы на шее вполне явственно двигались, а кипяток из самовара тек, и от него поднимался пар. Не хватало лишь сказанного слова.
Мама подняла голову. Произнесла:
– Ну, вот ты и пришел, дружок.
Папа поймал мою руку и легко ее пожал.
Какое это было счастье. Такого счастья больше не помню».
По-хрустальному — так пишет Евгений Водолазкин: звонкий хруст написанных им страниц еще долго отзывается в душе, рассыпаясь на тысячи кристаллически чистых слов и фраз. После «Лавра» кредит читательского доверия у писателя весьма велик. «Авиатора» ждали. Но эта книга — не «Лавр», она другая, в то же время автор остается верен себе.
Сначала толика разочарования, что завязка сюжета сильно растянута, а его развитие набирает ход постепенно, как сильно нагруженный локомотив. Но преодолев разгон, невозможно оторваться чтения, в финале закружившись в вихре размышлений. Как «Сто лет одиночества» Маркеса — можно долго читать-жевать бОльшую часть книги и проглотить единомоментно лишь последние сто страниц.
Погружаешься в мир литературной фантазии Водолазкина — и оказываешься в состоянии невесомости в трехмерном пространстве, прислушиваешься к звукам и буквам, стараясь уловить плывущие мимо мысли автора, приглядываешься к образам, пытаешься дотянуться рукой до исторического прошлого и осмыслить его.
«Я вдруг понял со всей ясностью, что за каких-нибудь несколько лет исчезло понятие правого и неправого. Верха и низа, света и тьмы, человеческого и звериного. Кто и что будет взвешивать, да и кому это теперь нужно? У моей Фемиды оставался только меч».
И вновь у Водолазкина путешествие во времени, один временной пласт наслаивается на другой. 1999 год. Выживший после экспериментов по крионике и размороженный под самый конец тысячелетия главный герой романа Иннокентий Платонов вспоминает, что же с ним произошло, фиксируя свои воспоминания о прошлом и впечатления о сегодняшнем в дневнике по совету выведшего его из заморозки врача Гейгера. Поначалу отрывочно вспоминает детство, родной Петербург, мать с отцом, первую любовь. Арест, ссылка, Соловки, Секирная гора. Начиная штриховыми зарисовками и затем постепенно укрупняя мазки, автор рисует эпическую картину России XX века.
«Человек – не кошка, он не может приземлиться на четыре лапы всюду, куда бы его ни бросили. Для чего-то же он поставлен в определенное историческое время. Что происходит, когда он его теряет?»
Сегодня мы возвращаемся к истокам скорее не в поисках пресловутой истины, а в попытке рассмотреть конкретного человека, одну из множества судеб, увлеченных неумолимым и неподвластным течением времени. Современные писатели обращаются к темам исторического наследия и советского прошлого.
«Иди бестрепетно» — так завещано главному герою романа, Иннокентию Платонову. И он шел, страдая и сострадая. Помнил и звуки Соловков, и запахи. Чтобы рассказать их человеку нового тысячелетия.
«Когда я однажды рассказывал Гейгеру, как мы работали в сорокоградусный мороз — без теплой одежды, без обуви, без еды, — он сказал мне, что не понимает, как в таких условиях можно было остаться в живых.
Так ведь и не оставались».
– Какое главное открытие вы сделали в лагере?
Вопрос, в сущности, банальный, как всё, что содержит слова “главный”, “самый” и т. п. Странно, что нужно было так долго блеять, чтобы это спросить. Но чем банальнее вопрос, тем ведь сложнее на него ответить.
– Я открыл, что человек превращается в скотину невероятно быстро.
Аллюзии на притчу о Лазаре (именно так названа Лаборатория по замораживанию и регенерации под руководством профессора Муромцева на Соловках, подопытным которой и стал Платонов), «Робинзона Крузо» Дефо и «Преступление и наказание» Достоевского приглашают задуматься о сущности действия и противодействия, подчинения обстоятельствам — умереть в штрафизоляторе или умереть во время опытов по заморозке.
– Если решите стать лазарем, поживете пару-тройку месяцев в полном комфорте. Как на мой вкус, лучше умирать благополучным и сытым. Впрочем, выбор за вами.
И я его сделал. Я стал лазарем.
«Вот сейчас, я заметил, в России полюбили фразу об отсутствии в истории сослагательного наклонения. Как и в мое время, нынче тоже возникают фразы, и их повторяют к месту и не к месту. История, видите ли, не имеет… Может, и не имеет, только бывают случаи, когда она предоставляет словно бы вторую попытку. Это – повторение и одновременно неповторение того, что было».
Доктор Гейгер, имеющий в роду немецкие корни, — противоположность Платонову, материалист, представитель научной мысли, однако искренне любящий своего подопечного и заботящийся о нем. Гейгер не Муромцев, для которого Иннокентий, з/к без права на жизнь, был одним из объектов жестокого эксперимента.
«Другое дело, что Гейгеру свойственна любовь к общепринятым истинам. Точнее, любовь к формуле, может быть, даже – к фразе. Ну, вроде того что после кофе повышается давление или, скажем, за преступлением следует наказание. А я вот прочитал на днях, что кофе, оказывается, далеко не всегда повышает давление. Не говорю уже о преступлении и наказании».
Без любви невозможно существовать героям Евгения Водолазкина, что в «Лавре», что в «Авиаторе», они буквально искрятся чистой любовью, увы, воздушной и непрочной, но фундаментальной. Ей было 17, ему 23, когда они расстались, казалось бы навсегда. Ей 93, ему примерно 30, когда встретились вновь. Анастасия, цветок, который Иннокентию так и не удалось сорвать. Платоше было даровано испытать любовь и после разморозки. Тоже Настя. Современная, практичная, хваткая. Два противоположных полюса, два века — в их отношениях, таких хрупких.
Я как-то сказал Насте, что милость выше справедливости. А сейчас подумал: не милость — любовь. Выше справедливости — любовь.
Полифоническое звучание дневников Платонова, Насти и Гейгера, в которых герои описывают картины былого и сущего, и создают перед читателем то самое трехмерное пространство XX века, в котором растворена авторская мысль. Герои рассуждают о роли личности в истории и личной ответственности человека за события. Всеобщая виновность или удавка, надетая сверху властью имеющими. Ближе к финалу голос жизнеописателя Иннокентия Платонова становится всё громче, постепенно превращаясь в эхо о судьбах человеческих на земле и не только.
В конечном счете остается ведь только слово.
